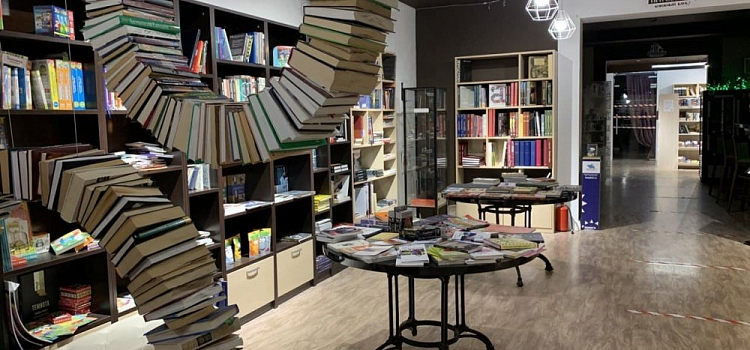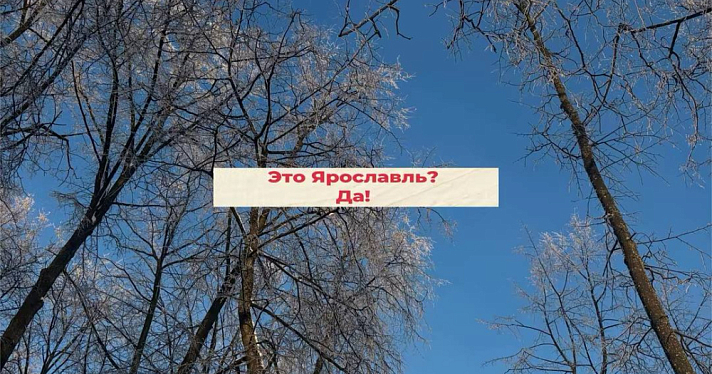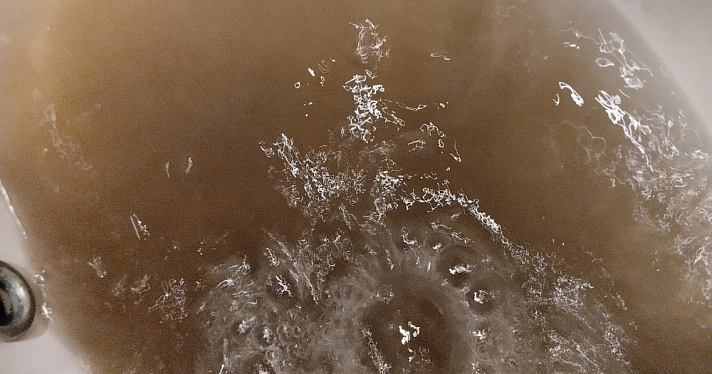Кто прогулял соцреализм, или четыре поколения русских писателей
Скепсис по отношению к современной русской литературе стал уже мейнстримом. Мы все, имеющие какое-либо мнение «по поводу», должны бы определиться: быть оптимистами или пополнить ряды недовольных ворчунов?
Для тех, кто считает, что современный литературный процесс — это просто набор случайных слов, поставленных в начале этой статьи по ошибке в один ряд, есть, как в классическом анекдоте, две новости: плохая и хорошая. Хорошая состоит в том, что они правы и плохая — в том, что они правы.
Сегодня нет никакого современного литературного процесса. Пытаться найти закономерности в пёстром мире литературы — это всё равно, что искать «римский сестерций в горстке советских рублей», то есть бессмысленно и совершенно бесполезно.
По замечанию писателя Ольги Славниковой «современная литература разобщена. Только ленивый не упрекал писателей в том, что они не читают друг друга».
Пожалуй, единое связующее звено во всей полифонии издаваемых текстов — это отсутствие единого метода и писателя-лидера, в отличие от литературы соцреализма, например (которую, признаемся себе, мы знаем очень поверхностно, потому что многие творения соцреализма не входят сейчас в так называемый национальный канон).
«Но есть кто-то, кто определяет нынешнее лицо литературы?» — спросит пытливый читатель, и будет прав, поскольку вопрос этот и является темой данной статьи.
 Кто прогулял соцреализм, или четыре поколения русских писателей
Кто прогулял соцреализм, или четыре поколения русских писателей
Сегодня, по выражению литературоведа Марии Черняк, литературу делают «те, кто существовал в недрах советской литературы, и те, кто работал в андеграунде, и те, кто пишет совсем недавно». Это разные поколения с очень разной информационной повесткой и разным отношением к стилю и слову.
Недолгий период в советской культуре, когда немного ослабилась железная хватка «центра» — период оттепели 1960-х гг. — вывел на литературную арену плеяду талантливых поэтов и писателей (А. Вознесенский, В. Аксёнов, В. Войнович, Б. Окуджава, Е. Евтушенко, В. Астафьев, Ф. Искандер, А. Солженицын и др.). В атмосфере творческой свободы и внутреннего раскрепощения они много сделали, они успели, их запомнили. После закручивания гаек судьба этих талантливых людей сложилась по-разному, но даже такого краткого периода им оказалось достаточно для того, чтобы остаться в истории, стать символами своего времени.
«Прогульщики соцреализма» — такое меткое определение дал поколению писателей-шестидесятников писатель Валерий Попов. «1960-е годы были самым счастливым десятилетием для наших писателей, поскольку в то время чудесным образом соединились свобода духа, солидность гонораров и твердость цен», — писал он о том времени.
«...анекдоты о Хрущёве рассказывали везде, издевались над кукурузой, ...культ личности был историей, Твардовский редактировал и публиковал „Один день Ивана Денисовича“ Солженицына, Некрасов печатал в „Новом мире“ „По обе стороны океана“, „Коллеги“ Аксёнова были знаменитейшей из книг и „Звёздный билет“ тоже, критики громили Асадова — мы его читали..., читали Вознесенского, переписывали „Пилигримов“ Бродского...», — писал М. Веллер в «Детях победителей».
Вот эти, из «недр советской литературы», поражают колоссальной трудоспособностью: в 2009 году издан последний роман Аксёнова «Таинственная страсть» (он умер тогда же, в 2009-м), Войнович и Евтушенко до конца жизни активно работали (Войнович написал и издал несколько книг: «Путем взаимной переписки», «В стиле Андре Шарля Буля» и «Малиновый пеликан», Евтушенко работал над «Беринговым тоннелем» —сборником, в который должны были войти новеллы и воспоминания о военном детстве, поездках в Америку, разных событиях жизни — по-моему, так и не изданном, или изданным уже посмертно).
Те, кто не успел запрыгнуть в последний «оттепельный» вагон, отправились в «душную» атмосферу 70-х.
«...мы ждали, ещё не понимая, что не будет поезда, что тот, на ком форма кондуктора, гонит нас в тупик, а жезл в его руке — на самом деле дубинка...», — писал всё тот же М. Веллер всё о тех же детях победителей, отставших от своих предшественников не только на литературную, но, кажется, на целую человеческую жизнь. Им такого исторического шанса, как писателям-шестидесятникам, не выпало.
«Дети победителей, отроки оттепели, юноши шестидесятых» — те, кому выпало на долю творить в период позднего застоя, уже в атмосфере несвободы: С. Довлатов, И. Бродский, В. Ерофеев, А. Битов, В. Маканин, Л. Петрушевская, В. Токарева, С. Соколов, В. Пригов и др., те, которые были «ни глупы, ни серы, ни вялы»; кого «не расстреливали, не пытали, не высылали за границу, не раскулачивали, в общем даже не сажали», а просто «задавили на корню», это «замолчанное поколение», «заткнутое». Одним суждено было умереть, другим спиться, третьи нашли в себе силы уехать, но сначала — распрощаться с иллюзиями о светлом будущем.
После закручивания гаек бессмысленным стало всё: и жизнь, и работа. Проза этого периода отличается сложностью, многоплановостью, многомерностью, использованием обширного культурного контекста, возвращению к символизму. Сейчас понять писателя-семидесятника (например, Ю. Трифонова) может только умный читатель из 70-х, потому что к произведениям той эпохи нужно подходить с определённым культурным бэкграундом. Те, кому удавалось печататься, создали образцы высококачественной прозы, которую, кстати, до сих пор ценят на Западе и которую у нас почему-то до сих пор не переиздали. Того же Трифонова, например. На его произведения навесили ярлыки «московские повести», «городская проза», «бытовая проза» и забросили на литературный чердак к пыльным томам «Советской энциклопедии».
«Бытовая», или «городская», проза 70-х — это заигрывании с цензурой. «Бытовым бывает только сифилис», — говорил раздражённо Трифонов. Быт, если взять его повести «Обмен» и «Другая жизнь» — пострашнее тюрьмы и смерти, потому что он бессмыслен, безыдеен и пуст, но это всё нужно было описать, а какие критерии для этого использовать... Если кратко — это тоска по идеалу. Впрочем, так можно охарактеризовать всю прозу 70-80-х.
А вот что говорит Дмитрий Быков: «Сегодня мировая проза продолжает потаённые тенденции культуры семидесятых. Тогда развитие империи искусственно прервалось, а между тем Трифонов, Стругацкие, Тарковский выходили уже на новый уровень: во всём мире было мало такой прозы и такого кино. Сейчас в России до этого уровня — как до звезды».
Почему считается, что именно поколение «отставших», «заткнутых» начало осваивать постмодернизм? Потому что характерной особенностью было сомнение: сомнение в любви, в семье, в дружбе, в государстве, в человеке вообще. В самиздате появляются «Москва-Петушки» В. Ерофеева, «Школа для дураков» Саши Соколова, произведения бр. Стругацких.
Третье поколение — «перестроечные» — это те, кто писал уже в бесцензурном пространстве: В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Улицкая, О. Славникова, С. Сорокин, Ю. Мамлеев, В. Ерофеев, В. Астафьев, Л. Петрушевская и др. Запрещённые ранее темы («армейская „дедовщина“, ужасы тюрьмы, быт бомжей и проституток, алкоголизм, бедность, борьба за физическое выживание») стали использоваться для выражения тоталитарного неблагополучия современной жизни.
Кто прогулял соцреализм, или четыре поколения русских писателей
В конце 90-х — начале нулевых на литературном небосклоне замаячило совсем другое, новое, поколение молодых писателей, по замечанию одного из критиков, «первое за всю историю России поколение свободных людей, без государственной и внутренней цензуры»: А. Уткин, Е. Садур, Е. Долгопят, А. Варламов и др. «Вскормленное (и вспоенное) застойными годами, провоцирующими скорее тягу к скепсису, нежели к какой бы то ни было очарованности, они тихонько переждали перестроечный хаос и плавно, без особенной помпы (за малыми исключениями) вошли в современный литературный ряд», — это немного едкое замечание критика и публициста М. Ремизовой направлено как раз в адрес молодого поколения.
«Двадцатилетние не сочиняют — они без купюр переносят на бумагу собственную жизнь, причем кадры их жизни обходятся без фотошопа. Здесь есть и секс, и наркотики, и рок-н-ролл... С одной стороны, это хорошо: снимок без ретуши — самый честный. С другой, — случаются перегибы: на некоторые снимки реальности смотреть неприятно и даже противно», — сетует на страницах «Вопросов литературы» критик С. Секретов.
Ну, а что вы хотели? У нас сейчас эпоха «нового реализма». То ли ещё будет?!
О молодых прозаиках Ольга Славникова, координатор литературной премии «Дебют» (а если вы хотите получить хоть какое-то представление о «молодой» прозе, необходимо иногда заглядывать в шорт-листы «Дебюта»), написала в статье «К кому едет ревизор? Проза поколения „next“». После статьи Славниковой читать современную прозу, в общем-то, совсем не хочется, а дебютантов — тем более. Но Славникова — злая, несмотря на то, что замечания её справедливы: «...многими соискателями проект „Дебют“ воспринимается как способ продать некоторых людей в качестве культовых авторов. То есть как систему назначений и выстраивание новой иерархической пирамиды весьма поодаль от взрослого мейнстрима. Короче говоря, каждый „дебютант“ ожидает благодаря проекту проснуться знаменитым. И для многих присутствие в „Дебюте“ „взрослой“ экспертизы становится шоком. Цитирую письмо, пришедшее по электронной почте: „Кто такие ваше жюри? Мы не знаем таких писателей. Как Веллер или Бовильский (так у автора. — О. С.) могут судить о молодежи, о ее чувствах? <...> Пусть председателем в „Дебюте“ будет Пелевин, а остальные пусть будут победители прошлого года“».
Увы, обновления литературы пока что не получается, но, может, оно и к лучшему. Пусть хотя бы эти молодые «дебютанты» подрастут, заматереют и, может быть, явят миру блестящую качественную прозу. Или поэзию. Чтобы всё-таки до той самой звезды, о которой говорил Быков, стало немного ближе.
***
Кристина Кистол окончила КГУ им. Н.А. Некрасова по специальности «Филология»; изучала историю русской литературы и русской критики в аспирантуре КГУ им. Н.А. Некрасова; работала в Ярославском филиале «Московского психолого-социального университета» внештатным сотрудником на кафедре психологии – преподавала студентам стилистику современного русского языка. Сейчас ведет книжный блог.
Фото: книжный клуб «Петровский» в г. Нижний Новгород.